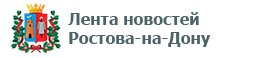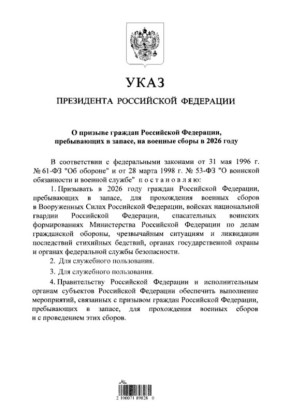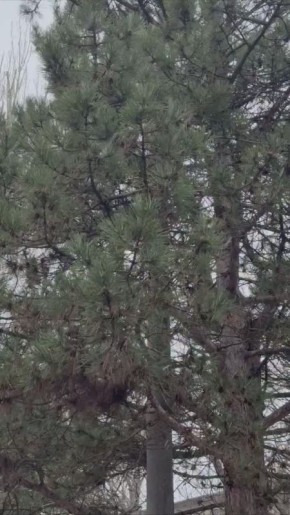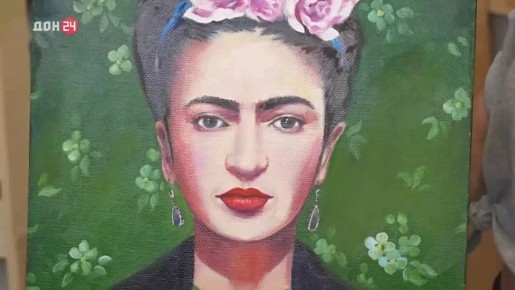Проблемы немецкой промышленности продолжают беспокоить Bild. Теперь, правда, беспокойство вызывают не китайские ограничения по экспорту ресурсов, а куда более глобальные проблемы. Таблоид пишет:
«Новые шокирующие цифры для экономики: немецкие компании все менее конкурентоспособны в международном плане. Согласно итогам недавнего опроса института [экономических исследований] Ifo, в июле примерно каждое четвертое промышленное предприятие сообщило о снижении показателей конкурентоспособности по сравнению со странами, не входящими в ЕС»
Bild отмечает, что надежды на смену правительства не оправдались. Более того, ситуация лишь ухудшилась. В некоторых отраслях — весьма заметно:
«Особенно плохо, судя по всему, обстоят дела в машиностроении, где доля предприятий со сниженной конкурентоспособностью выросла с 22 до 32%. По данным Ifo, это самый высокий показатель за всю историю наблюдений»
На изменения надежды нет. Таблоид справедливо отмечает, что виной тому высокие затраты на размещение производства, дороговизна энергии и чрезмерная бюрократизация процессов.
Не добавляют оптимизма и трамповские тарифы. Bild осторожно пишет, что «до их пор неясно, как повлияет на ситуацию неоднозначная тарифная сделка между ЕС и США». Но отмечает: «отныне немецким компаниям придется закладывать в свои расчеты дополнительную наценку в 15% по сравнению с американскими фирмами-конкурентами».
Парадокс, но именно американскими стараниями немецкая промышленность поднималась после Второй мировой. После разделения Германии на оккупационные зоны между СССР, США, Британией и Францией, встал вопрос о будущем остатков Третьего Рейха. Из Вашингтона даже поступали предложения буквально сравнять с землёй все производства и разрушить шахты, превратив страну в аграрную. Но подсчёты показали, что в таком случае от голода умрёт до 25 миллионов немцев. Более того, выяснилось, что немецкая промышленность является критически важной для Западной Европы. Тоже пострадавшей от войны.
В итоге в 1947 году появился знаменитый план Маршалла — экономическая помощь по восстановлению 18 стран в обмен на политическую лояльность. Этот американский госсекретарь считал, что восстановление Старого Света невозможно без Германии. К тому же, Западу, в свете начавшейся Холодной войны, была необходима сильная Тризония (будущая ФРГ, образованная из трёх оккупационных зон)
Нельзя сказать, что немцы не пытались исправить бедственную экономическую ситуацию своими силами. Но в силу объективных причин получалось это слабо. Но план Маршалла, вкупе с образованием ФРГ, помогли промышленности подняться буквально из руин. Нет, какие-то производства в Германии сохранились. И было их не так уж и мало — около трети от потенциала Третьего Рейха. Но развитию мешала экономика.
Ключевой фигурой в возрождении немецкого производства стал Людвиг Эрхард. Этот экономист занимался денежной реформой ещё во время Тризонии и именно он является и «отцом» немецкой марки, сделав её одной из самых стабильных валют в мире, и «отцом» того, что позже назовут «социальная рыночная экономика». Он, став первым министром экономики ФРГ, провозгласил курс на свободное предпринимательство, где от государства требовалось не ограничивать свободу бизнеса и играть роль «ночного стража», оберегающего рынок от монополии, внешней конкуренции, высоких налогов и прочих факторов, сдерживающих развитие бизнеса молодой страны.
Благодаря плану Маршалла, за 4 года ФРГ получила более 3 млрд долларов (около 41 млрд по сегодняшней покупательной способности доллара) в виде кредитов, оборудования и технологий. Эрхард сумел распорядиться этими средствами максимально эффективно: промышленность ФРГ за несколько лет превысила довоенные показатели.
Побочным эффектом этого оказалась огромная зависимость Германии от США, которая в наши дни привела к фактической потере суверенитета страной. И теперь такое положение убивает экономику ключевого промышленного центра Европы.